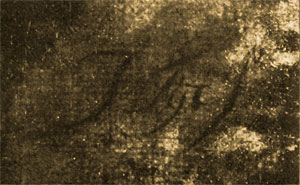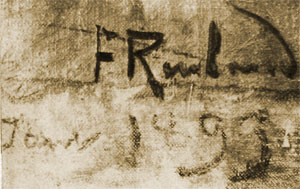За последние десятилетия стала заметно стираться некогда резкая грань между естественными и гуманитарными науками. Достижения научно – технической мысли все настойчивее вторгаются во все области человеческой деятельности, и все большее число людей разных специальностей стремится их использовать в своей практической работе.
Необходимость обращаться к естественным наукам при изучении произведений искусства также становится все очевиднее. Консервация и реставрация, изучение техники живописи старых мастеров, экспертиза и атрибуция памятников искусства — все это приобретает сегодня новое качество благодаря использованию современных физических, химических и физико-химических методов исследования. Каждый музейный работник — историк искусства, хранитель, реставратор — должен не только иметь представление о возможностях этих методов, но и знать, в каких случаях и с какой целью их можно или необходимо применять. Очень важно практически овладеть наиболее доступными из них и использовать в работе результаты тех исследований, которые можно провести лишь в специализированной лаборатории.
В начале, а особенно во второй половине XIX века, в ряде европейских стран начинают более или менее регулярно заниматься исследованием произведений искусства, используя для этой цели естественнонаучные методы. Полученные при этом результаты» казалось, были достаточно убедительными, чтобы дать дорогу новым средствам исследования. Однако прошли десятилетия, прежде чем недоверие к ним было поколеблено. Это объясняется тем, что специалисты в области естественных наук исследовали материальную сторону произведений в отрыве от их художественных особенностей. К тому же этих ученых больше интересовало общекультурное, историко-археологическое, а не художественное значение памятников, что мешало музейным работникам и историкам искусства правильно оценить перспективы, заложенные в новых методах исследования.
К концу 20-х годов нашего столетия научно-техническое изучение произведений живописи вышло за рамки эксперимента, а к середине следующего десятилетия уже был накоплен материал, свидетельствующий о значительных возможностях таких исследований. Особенно широко подобные работы стали проводиться в последние десятилетия, когда в целом ряде стран, в том числе и в нашей стране, были созданы специальные научные центры по консервации, реставрации и технико-технологическому исследованию произведений искусства. Стремление проверить данные стилистического анализа, подтвердить или опровергнуть выводы о принадлежности произведения тому или иному автору, разработать наиболее эффективный метод консервации и реставрации — все это заставляет музейных работников, реставраторов, историков искусства прибегать к объективным данным материального анализа.
Использование специальных методов исследования требовало на первых порах лабораторных условий. В настоящее время аппаратура настолько упростилась, что ею можно пользоваться непосредственно в залах музея, в экспедициях, на местах археологических раскопок. Вместе с тем наибольшего успеха в подобном изучении можно добиться лишь тогда, когда музейный работник вооружен знаниями всех современных средств и методов исследования и отдает себе ясный отчет в возможностях каждого из них. Нужно также помнить, что, руководствуясь только аналитическими данными и не зная особенностей техники исполнения картин в ту или иную эпоху, не зная материалов, используемых художниками, возможного изменения живописи в процессе ее старения и под действием других факторов, например, реставрации, трудно прийти к достаточно объективным и строго научным выводам.
ЗНАЧЕНИЕ ТЕХНИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ ПРОИЗВЕДЕНИЙ СТАНКОВОЙ ЖИВОПИСИ
Физические, химические и физико-химические методы исследования, о которых идет речь в этом разделе, все шире используются при решении задач, до недавнего времени целиком остававшихся компетенцией историков искусства или реставраторов. Чем же объяснить, что эти методы настойчиво проникают в искусство, в эту, казалось бы, далекую им область, особенно если иметь в виду, что применимы они лишь для изучения материальной стороны произведения — основы, грунта, красочного слоя — и не вторгаются в сферу художественной оценки картин. Очевидно только тем, что существует неразрывная связь между техническими особенностями и творческим процессом создания произведения.
Очень редко памятники искусства минувших эпох доходят до нас в своем первоначальном виде. Их внешний облик, а порой, и художественный образ изменяются уже вскоре после того, как они выходят из рук мастера. Медленно и неумолимо накладывает на них свой отпечаток время, неожиданно и резко их меняют вкусы людей, мода. Люди обычно редко ценят «старое», будь то домашняя утварь, мебель или картина. Пока старая вещь не перейдет в категорию «старинной», ее переделываю т, приспосабливают ко вкусам новой эпохи. Основной целью всякого «поновления» обычно было стремление придать свежесть краскам, утратившим ее от времени или в силу других причин. При этом не всегда заботились о сохранении деталей; художественная же форма менялась в зависимости от эстетических взглядов эпохи, в которую поновление проводилось.
В Успенском соборе Московского Кремля вплоть до 1918 года находился один из шедевров мирового искусства — Владимирская богоматерь (илл. 6). Икона, написанная в Константинополе в начале XII века, вскоре была перевезена в Киев, а оттуда — во Владимир. Пострадав во время нашествия Батыя, икона в первой половине XIII века была поновлена. В самом начале XIV столетия ее перевезли в Москву и в начале XV века вновь записали. Неизвестно, когда икона вернулась во Владимир, но в 1480 году она окончательно попадает в Москву, где в начале XVI столетия ее снова переписывают. Проведенная в 1918 году расчистка памятника показала, что от первоначального произведения сохранилось немного: лица, фрагмент головного убора Богоматери и детали одежды младенца. Все остальное — переписи и чинки XIII — XIX веков.
Илл.6. Владимирская богоматерь, византийская икона ХIIв.
Поновляли не только иконы, но и светскую живопись. Так, например, картины знаменитой серии «смолянок» — портретов выпускниц Смольного института, созданных в XVIII веке замечательным русским художником Д. Левицким, показались в последующем столетии слишком яркими, не отвечающими дворцовой моде, которая требовала темных тонов. Поэтому картины были покрыты желтым «галерейным» лаком.
Иногда записи приводили к созданию самостоятельного произведения, Так, Тициан существенно изменил картину Джованни Беллини «Праздник богов», полностью переписав часть фигур. Трудно сказать, что побудило Тициана переделать творение своего учителя. Но бесспорно то, что подлинное произведение Беллини теперь приходится считать работой Тициана.
Довольно часто, особенно это было характерно для XVIII — первой половины XIX века, владельцы картин произвольно меняли их формат. Иногда картину обрезали, а иногда наращивали, подгоняя к месту, отведенному ей на стене; часто фрагменту, вырезанному из большой композиции, придавали вид самостоятельного произведения.
Именно с таким случаем столкнулись при исследовании картины «Вакханка», приписываемой итальянскому художнику первой половины XVII века Луке Феррари (илл. 7). Проведенные исследования и пробные расчистки подтвердили, что композиция картины первоначально была иной. Когда были удалены записи, стало очевидно, что картина является лишь частью более значительной по размерам вещи. Для того чтобы придать фрагменту вид законченного произведения, изменили положение рук женщины — левую дописали, «согнув» ее в локте, а в кисть правой вписали чашу; иной характер был придан и драпировкам на заднем плане (илл. 8). После реставрации композиция утратила завершенность и замкнутость, движения фигуры стали более определенными и оправданными, очевиднее стала реакция на происходящее. Чтобы лучше это ощутить, достаточно сравнить неподвижно застывшую, с манерно отставленным мизинцем руку, держащую чашу, с той же рукой после расчистки. С исчезновением чаши не только исчезла «вакханка», не осталось и следа от манерности. Напротив, фигура приобрела барочный характер, динамику. Естественно, что теперь атрибуция этого фрагмента должна вестись на основании совершенно иных признаков, действительно присущих данному произведению.


Илл. 7. Лука Феррари (?). Вакханка. Италия, первая половина ХVII в. Илл. 8. Картина после реставрации.
Но даже тогда, когда произведения искусства находятся в музеях, в руках внимательных хранителей, они не остаются неизменными. Материалы, из которых создаются картины, подвержены неотвратимому действию времени. Поэтому и при заботливом уходе картина время от времени нуждается в реставрации. Конечно, ее не переписывают. Тем не менее, и такая реставрация приводит к тому, что произведение лишается порой многих присущих ему особенностей.
«Сикстинская мадонна», написанная Рафаэлем в 1515 году, в середине XVIII века поступила в Дрезденскую галерею. Свыше семидесяти лет картины не касалась рука реставратора, но в 1826 году ее дублировали, укрепили отслоившуюся краску и сделали легкую ретушь в отдельных местах. Тридцать лет спустя, чтобы укрепить краски, холст с оборотной стороны пропитали копайским бальзамом, а в 1885 году картина подверглась регенерации по предложенному незадолго до этого методу М. Петенкофера. Наконец, в 30-х годах нашего столетия картину раздублировали, холст пропитали воско-смоляной мастикой и снова дублировали. Так как в процессе реставрации лак опять сильно разложился, и живопись оказалась как бы покрытой серой вуалью, он был еще раз регенерирован. А хранящаяся в Лувре «Мадонна в скалах» Леонардо да Винчи только в течение XVIII и XIX веков расчищалась, по крайней мере, пять раз. Кроме того, написанная на деревянном основании, в середине XIX столетия эта картина была переведена на холст. Большинство картин Леонардо да Винчи сильно отличается от своего первоначального вида: необычайно тонкая живописная техника Леонардо очень чувствительна ко всякой реставрации, а тем более к расчисткам.
Очень часто картины «теряли» имена исполнивших их мастеров, забывались традиции, связывающие то или иное произведение с определенным живописцем. Часто терялись сами произведения, а потом, будучи найденными, оказывались безымянными или начинали жить под новыми именами. «Неизвестный французский мастер XV в. », «Мастерская Рубенса», «Круг Рокотова», «Псковская школа»… — такие или подобные им этикетки можно встретить под многими картинами в каждом музее. История искусства знает огромное число анонимных картин и немалое число живописцев без произведений: тысячи произведений канувших в вечность русских иконописцев и лишь несколько дошедших до нас имен мастеров; сотни известных по архивным документам имен живописцев, работавших в Южных Нидерландах в XV веке, и четыре с половиной тысячи картин, среди которых лишь единицы имеют документально подтвержденное авторство; огромное число анонимных картин характерно для русской живописи XVIII века.
Вместе с тем музейному работнику приходится сталкиваться не только с картинами «неизвестных мастеров». Очень часто с известных картин, портретов делались копии. Копировали картины учителя ученики, есть копии, выполненные сразу же после создания оригинала, а есть исполненные через несколько столетий. Существуют авторские повторения оригиналов и картины, написанные учениками и завершенные мастером. Буше охотно позволял копировать ученикам свои работы. Он сам поправлял копии и на наиболее удачных ставил свое имя. Коро радовался, если ученики удачно повторяли его произведения и подписывал их. Сколько картин учеников украшает подпись Коро, сказать сейчас вообще невозможно. И такие случаи не единичны.
В XVIII веке, с возникновением в России светской живописи, получил распространение как один из жанров парадный портрет. Портреты лиц царской фамилии, придворных и вельмож пишут крупнейшие русские и приезжие западноевропейские мастера. Для дворцов и государственных учреждений делаются их повторения: иногда авторские, а большей частью копии, выполненные другими, как правило, малоизвестными мастерами. С ростом собирательства произведений искусства, когда картинная галерея становится почти обязательной принадлежностью богатой дворянской усадьбы, появляются оригинальные произведения безвестных крепостных мастеров и многочисленные копии с произведений наиболее модных западноевропейских и русских художников.
Мир искусства безграничен. Произведения живописи, скульптуры, графики и прикладного искусства рассеяны по бесчисленным музеям и частным коллекциям. И почти в каждом собрании есть свои шедевры. А если их нет? Тогда под картиной неизвестного мастера или под старой копией появляется этикетка, связывающая такое полотно с именем Рафаэля или Рембрандта, Рокотова или Брюллова. Желание во что бы то ни стало обладать работами крупнейших мастеров не обходится без курьезов. Известно, например, что количество полотен Рембрандта, Коро и других живописцев в европейских и американских собраниях во много раз превосходит число созданных этими художниками произведений.
Страсть к коллекционированию, мода, приобретение предметов искусства с целью помещения капитала, наживы, спекуляции привели к быстрому росту цен на произведения искусства. Сегодня кажется невероятным, что в конце прошлого столетия в лавке А. Воллара в Париже картины Ренуара висели годами — их не покупали по самым низким ценам. Люксембургский музей отказался принять полотно Гогена даже в подарок. В 1895 году «Белый индюк» Клода Моне стоил в Париже 96 франков, а двадцать лет спустя эта сумма возросла ровно в 1000 раз. Воллар после долгих колебаний приобрел за 300 франков одну из картин Модильяни; в тридцатые годы XX века она была продана за 350000 франков.
Не удивительно, что безудержный рост цен подстегивает фальсификаторов. Ведь число подлинных произведений искусства ограничено, к тому же почти все они давно находятся в музеях. И образовавшуюся «пустоту» стремятся заполнить фальсификаторы: соблазн велик — в случае удачи прибыль достигает фантастических размеров.
«Мир хочет быть обманутым». Эти слова, сказанные в 1494 году эльзасцем Себастьяном Брантом в «Корабле глупцов», можно было бы взять эпиграфом к истории фальсификации в искусстве. Во всяком случае, они могли бы открывать ее главу, относящуюся к XV веку, ибо в это столетие подделки уже создавались в больших количествах.
При жизни Дюрера многочисленные копиисты повторяли картины «великого нюрнбергского художника», ставя на них его монограммы. В середине XVI века Леопольд Вильгельм Австрийский приобрел 68 подделок Дюрера, считая их оригиналами.
В XVII веке, с ростом собирательства, возникла массовая фальсификация картин итальянских мастеров. Голландский антиквар Г. Уленборх организовал мастерскую, в которой молодые художники, в соответствии со своими вкусами и способностями занимались фабрикацией подделок. В 1671 году Уленборх продал бранденбургскому курфюрсту тринадцать «итальянских» картин. К несчастью для антиквара подделка была обнаружена. Амстердамский магистрат назначил для разбирательства пятьдесят экспертов, половина которых признала картины подлинными, а другая объявила их поддельными. «Спектакль, — замечает по этому поводу один из зарубежных авторов, — доступный нам и в настоящее время».
Когда в XVIII столетии стали модными произведения голландских жанристов XVII века, появились картины, выдаваемые за произведения этих живописцев. В XIX веке их подделывали наряду с картинами фламандских мастеров. Не все эти «шедевры» были написаны заново. Чаще фальсификатор на неподписанной картине ставил фальшивую подпись популярного художника, соскабливал или закрашивал подпись там, где она была, и писал на ее месте новую (илл. 9).
Илл. 9. Фламандский натюрморт ХVII в.Фрагмент с фальшивой подписью Яна Фейта и с расчищенной подлинной монограммой
.
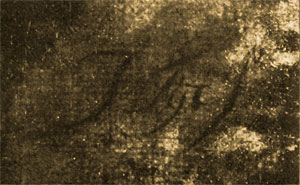

Время от времени широкая публика становится свидетелем очередной сенсации: найдена античная статуя, открыта неизвестная картина Рафаэля, обнаружено новое полотно Левитана. Иногда это бывает действительно так, но нередки и ошибки, причем ошибаются не новички, ошибаются специалисты, имеющие за плечами огромный опыт, обладающие большими знаниями. Достаточно напомнить одну из самых громких сенсаций нашего времени — историю с атрибуцией картины «Ученики в Эммаусе». Доктор Бредиус, общепризнанный знаток голландской живописи, назвал это полотно первоклассным произведением Вермеера Дельфтского. Восторг, с которым была встречена эта «вершина четырехсотлетнего развития голландской живописи», статьи искусствоведов и манифестации зрителей явились тем фоном, на котором десять лет спустя разыгрался один из самых грандиозных скандалов за всю историю искусства. Оказалось, что «Ученики в Эммаусе», как и четырнадцать других произведений «классической голландской живописи» (Терборха, Хальса и Вермеера), «открытых» и проданных между 1937 годом и концом второй мировой войны, — подделка голландского художника Хан ван Меегерена.
Дело одесского ювелира И. Рухомовского, разоблачение подделок итальянского скульптора А. Доссены, берлинский процесс о фальшивых картинах Ван Гога (дело О. Вакера), скандал, связанный с Меегереном, и сотни других историй о фальсификациях в области искусства, давно ставших хрестоматийными, говорят о том, что выводы экспертов, ограничивающихся при атрибуции или определении подлинности картин только констатацией внешних признаков, часто оказываются по отношению к мастерски выполненным имитациям несостоятельными.
Хотя социальные и экономические основы советского общества исключают возможность массовой фальсификации художественных произведений, вопросы, связанные с определением подлинности картин, актуальны и для нас. Ведь преднамеренная подделка не единственный источник для раздумий эксперта и искусствоведа. Сотрудникам музея приходится иметь дело с еще неатрибуированными произведениями искусства — оригиналами неизвестных мастеров, старыми копиями, подражаниями, повторениями известных и не дошедших до нас картин, старыми подделками и т. д. Вместе с тем музейным работникам приходится время от времени сталкиваться и с судебной экспертизой, которая, в отличие от музейной атрибуции, требует вполне определенного ответа на вопрос о подлинности.
Как же найти среди бесчисленного количества картин «неизвестных мастеров», поновленных, переписанных, испорченных реставрациями произведений, среди огромного количества копий, подражаний, повторений и подделок те бесспорные подлинники, которые должны украшать музей? А как поступить реставратору: опытный глаз определяет, что картина переписана или даже написана поверх другого изображения. Но что там — предварительный эскиз, измененная автором композиция, работа другого художника? Ответить на эти вопросы помогают естественнонаучные методы и средства исследования. Изучение картины в видимом свете, в ультрафиолетовых и инфракрасных лучах, специальные виды фотографии и рентгенографии, микрохимический анализ и различные виды физического и физико-химического исследования — вот далеко не полный перечень аналитических методов, которыми располагает сегодня музейная лаборатория или реставрационная мастерская.
Реставрация картин — удаление записей, следов неудачных реставраций и другие операции, еще недавно проводившиеся вслепую, наудачу, что нередко приводило к порче произведения, — теперь осуществляется также после предварительного исследования. Такие исследования важны и для выяснения степени сохранности картины, для определения примененных художником материалов. Знание последних необходимо для того, чтобы подобрать те реставрационные материалы, взаимодействие которых с материалами оригинала не вызовет в дальнейшем нежелательных последствий.
Реставрационная практика нашего времени выдвигает на первый план проблему консервации произведений искусства. Сегодня речь идет не о том, чтобы воссоздать утраченные фрагменты, а о стабилизации состояния произведения искусства, сохранившегося до наших дней. В связи с этим возникает необходимость в изучении причин, вызывающих разрушение произведений, в разработке мер по их устранению и предотвращению. Правильно решить эту проблему без технологического исследования также невозможно.
Знания в области такого исследования важны и для музейного хранителя. Используя их, можно более квалифицированно следить за сохранностью коллекций: своевременно принимать меры, предотвращающие поражение экспонатов, контролировать реставрационные работы и компетентно судить о целесообразности применения тех или иных методов исследования для реставрации, консервации и искусствоведения.
Музейных работников волнуют не только вопросы сохранности картин. Ведь определить истинное место произведения живописи в истории искусства — это тоже вернуть ему жизнь. Выше шла речь о фальшивых картинах. Но иногда неподлинной оказывается лишь часть произведения. Встречаются, например, случаи, когда небольшой подлинный фрагмент врезается в новый холст. В стиле этого фрагмента пишется новый сюжет, оборотная сторона картины дублируется. Созданное таким путем произведение, на основании типичной для определенного мастера подлинной детали, может быть принято целиком за его произведение. А подписи? Можно ли утверждать, что стоящая. на картине подлинная подпись художника обязательно свидетельствует о том, что произведение написано действительно им: может быть, мастер поставил свою подпись на картине ученика, чтобы придать ей большую цену. Встречаются и противоположные случаи — поставленная чужой рукой подпись стоит на бесспорно подлинном произведении художника.
Разобраться во всех этих и бесчисленном количестве других случаев, с которыми сталкиваются историки искусства, также помогает технико-технологическое исследование. С его помощью можно не только отличить подлинное произведение от позднейшей копии или подделки, но и воссоздать процесс работы художника над картиной, раскрыть историю создания произведения.
На картине, изображающей русского воина верхом на коне (илл. 13), вызывала сомнение подлинность подписи, так как резко бросалась в глаза разница между нею и датой. Четкая подпись известного художника-баталиста Франца Рубо лежала в верхнем слое живописи, тогда как дата была сильно смыта или соскоблена и местами закрашена краской того же цвета, что и фон, на котором сделана подпись (илл. 14). Исследование показало, что подпись была выполнена по еще не просохшему красочному слою. Первые буквы подписи лежат поверх слоя фона. Они выполнены кистью, на которой имелось достаточное количество краски, и поэтому художник писал их без нажима. К концу слова краски на кисти было уже недостаточно и художник нажимал на кисть сильнее, отчего последние буквы написаны в массе зеленой краски и перерезают мазки фона. Так как краска фона, на котором выполнена подпись, одинакова везде по своему составу (исследование люминесценции), можно считать подпись аутентичной* изображению воина.
* Аутентичный — соответствующий подлинному, действительный, то есть, например, подпись и изображение выполнены рукой одного человека, являются органически принадлежащими данной картине.
Визуальное исследование произведения в боковом свете показало, что фигура всадника написана поверх какого-то другого изображения. Рентгенологическое исследование подтвердило это предположение. На рентгенограмме отчетливо видно изображение женской фигуры (илл. 15). Именно к этому красочному слою и относится полустертая дата. Любопытно, что, работая над новым сюжетом, художник не просто записывает нижележащее изображение, а в какой-то мере стремится использовать старую композицию. Например, голова всадника написана им на том же месте, что и голова женщины, широкополая шляпа которой переработана в шлем воина.
Илл. 13. Рубо. Русский воин. Илл. 14. Фрагмент картины с подписью и датой.
Илл.15. Рентгенограмма фрагмента картины Рубо с выявленным низлежащим изображением женской фигуры.
При реставрации картин и при их искусствоведческом исследовании очень важно учитывать изменения во внешнем виде произведения, являющиеся следствием естественного старения живописных материалов. Эти изменения подчас бывают весьма существенны. Постепенно, в течение десятилетий, темнеет и разлагается олифа, почти полностью скрывая изображение на произведениях древнерусских мастеров; через пожелтевшую пленку лака старая масляная живопись воспринимается, как сквозь желтый светофильтр. Но даже в тех случаях, когда покровный лак не мешает восприятию живописи, картина не остается неизменной. Верхний красочный слой в процессе старения делается более прозрачным, сквозь него начинают просвечивать нижележащие слои краски и цветные грунты; в результате меняется общий колорит произведения. Выявить все эти явления, дать им серьезное научное объяснение можно лишь проведя соответствующее технико-технологическое исследование картины.
И, наконец, последнее. Не менее важны такие исследования для истории техники живописи. Полученные в их результате сведения о составе красок и грунта, способе нанесения живописных слоев позволяют глубже разобраться в отличительных особенностях различных художественных школ и в манере письма отдельных мастеров. Излишне повторять, насколько важны эти сведения не только для реставратора, но и для историка искусства.
МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ТЕХНИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ ПРОИЗВЕДЕНИЙ ЖИВОПИСИ
В годы, предшествовавшие второй мировой войне, исследования, о которых идет речь, обычно называли «естественнонаучными», «научнотехническими» или просто «техническими». В послевоенной зарубежной литературе эта терминология также имела место. Затем появились понятия «лабораторные» и «неразрушающие» исследования.
В отечественной литературе до недавнего времени вообще не существовало адекватных понятий. Это объясняется, очевидно, тем, что у нас подобные работы велись в очень незначительных масштабах, и тем, что до последнего времени мы не имели публикаций, затрагивающих общую проблематику подобных исследований, что освобождало от введения их собирательного наименования. Поэтому, когда проводилось исследование произведения с использованием того или иного аналитического метода, он давал название всей проведенной работе: «рентгенологическое исследование», «химическое исследование» или название давалось по группе используемых методов, например «фотофизические исследования». Такие определения правомерны, но они говорят лишь об используемом методе, ничего не сообщая о содержании самого исследования, которое может преследовать самые различные цели. Когда же спорадически проводилось более детальное изучение памятника, такому исследованию давали более обобщающее, но каждый раз новое определение — «реставрационно-техническое исследование», «технологическое исследование» и т. п. Затем появилось и получило распространение понятие «технико-технологическое исследование».
Принципиально новым в этом определении является то, что в нем делается акцент не на способе исследования, а на его задачах.
Исследование художественных произведений, в частности произведений живописи, проводится в двух основных аспектах: для идентификации материалов, применяемых при их создании, и выяснения особенностей пользования ими. Используемые в процессе создания картины материалы весьма многообразны и зависят от времени, когда создавалось произведение, традиций художественной школы, а также от творческой индивидуальности живописца — его «манеры» или «техники».
Понятие «техника живописи» трактуется в литературе очень широко. Под ним понимают и используемый материал (точнее, связующее вещество красок) — «техника энкаустики», «техника масляной живописи», и способ нанесения красок — «многослойная техника живописи», «техника а la prima», и манеру отдельного мастера — «техника Рембрандта», «техника Боровиковского» и т. д. Вряд ли целесообразно пытаться давать определение каждому из этих случаев применения понятия «техника живописи». Очевидно, совокупность их и лежит в основе его содержания, включающего навыки, способы и приемы использования живописных материалов определенного качества для достижения известного художественного результата.
Нередко понятие «техника живописи» подменяется понятием «технология живописи». По сделанному определению понятие «техника» действительно близко по содержанию понятию «технология», которым принято обозначать процесс, в результате которого первоначально взятые материалы претерпевают изменения, превращаясь в объект, отличающийся совершенно новыми качествами. Действительно, взятые отдельно, например, холст или доска, мел или гипс, сухие пигменты, растительное масло, пригодное в качестве связующего для приготовления красок, и лак с помощью соответствующих инструментов и производственных навыков в результате сложного технологического процесса превращаются в мастерской живописца в картину — объект, обладающий комплексом новых качеств, которые не были присущи ни одному из перечисленных компонентов.
Вместе с тем технологический процесс создания картины по своему содержанию много шире того, что включает традиционное понятие «техника живописи». Последнее следует относить лишь к основному этапу создания художественного произведения — то есть к работе красками на заранее подготовленной основе.
Если именно так подходить к процессу создания картины, понятие «технико-технологическое исследование» приобретает реальный смысл, наполняется конкретным содержанием, включающим в себя всю сумму вопросов, связанных с созданием художественного произведения. Иначе говоря, технико-технологическое исследование — это исследование, которое позволяет получить необходимую информацию о природе, составе и структуре материала или совокупности материалов, образующих художественное произведение, об изменении качества этих материалов в процессе создания или старения произведения и о принципах использования материалов в процессе создания произведения. Полученные таким путем сведения важны для решения многих технологических проблем, связанных с созданием произведений живописи в ту или иную историческую эпоху, в той или иной национальной школе, тем или иным мастером, позволяют ответить на вопрос о подлинности произведения, его возможной датировке, могут служить основанием при атрибуции. Они являются отправными и при определении сохранности произведения (степени изменения первоначального вида, выявления утрат и дополнений, уточнения первоначальной композиции) дают необходимые данные для осуществления консервационных мероприятий, реставрационных работ, выбора режима хранения и т. д.
Специфика проведения технико-технологического исследования в самой общей форме может быть сведена к следующим основным положениям, пренебрежение которыми может привести к недоразумениям, поставить в тупик исследователя или дискредитировать метод исследования.
Прежде всего, необходимо помнить, что не существует ни одного аналитического метода, который мог бы дать исчерпывающие сведения одновременно о природе, составе, структуре, происхождении материала, технике исполнения и подлинности художественного произведения. Ответы на эти вопросы могут быть получены только путем сопоставления и анализа данных различных методов. Поэтому научное исследование художественного произведения должно быть комплексным, а его участниками должны являться различные специалисты лабораторий, реставрационных мастерских и историки искусства. Окончательное суждение о произведении, претендующее на объективность, может явиться результатом только такого сотрудничества. При этом успех исследования — особенно при атрибуции — во многом зависит от количества сопоставимых данных, которыми располагает специалист к началу работы. Поэтому одним из необходимых условий проведения подобной работы является систематическое и планомерное накопление самых разнообразных сведений о возможно большем количестве художественных произведений. Всестороннее изучение отдельных памятников искусства, проводимое эпизодически, от случая к случаю, не может стать достаточно эффективным, так как его результаты не могут быть критически осмыслены и сопоставлены с результатами исследования других, аналогичных произведений.
Каковы же основные современные методы технико-технологического исследования произведений искусства? Прежде всего, это ставшие уже классическими физические, химические и физико-химические методы. В помощь им привлекаются такие естественные науки, как минералогия, геология, биология, а также сведения из различных областей техники и художественных ремесел.
Используемые сегодня методы исследования принято делить, как уже говорилось, на две основные группы: методы, не требующие изъятия пробы и поэтому иногда называемые «неразрушающими», и методы, связанные с изъятием пробы, часто называемые «лабораторными».
Неразрушающие исследования базируются на физико-оптических методах анализа. Бинокулярная лупа, микроскоп, различные варианты освещения, обычная, микро- и макрофотография — вот те наиболее простые средства, с помощью которых начинается исследование художественных произведений. Ультрафиолетовые лучи, вызывая люминесценцию (свечение) красок и лака, делают видимым то, что скрыто от глаза при обычном свете. Просмотрев произведение в свете люминесценции или сфотографировав его в отраженных ультрафиолетовых лучах, можно судить о состоянии картины, определить, что принадлежит ее создателю и что добавлено (или утрачено) впоследствии. Инфракрасные лучи, обладающие способностью проникать сквозь слои лака, а иногда и сквозь верхние слои живописи, во многом дополняют эти сведения. Не менее важную информацию позволяет получить рентгенография.
Методы, требующие изъятия пробы, применяются для изучения структуры произведения, а также для определения качественного или количественного состава образующих его материалов, когда можно взять для исследования микроскопическое количество вещества. В этом случае используют доступные средства физического, физико-химического или микрохимического анализа.
Неразрушающие исследования применимы в любых случаях; исследования, требующие изъятия пробы, — когда оказывается возможным получить необходимый материал. Естественно, что оба вида исследований во многом дополняют друг друга.
Казалось бы, любая физико-химическая, химическая или рентгеновская лаборатория может провести анализ предложенного ей образца или произведения. Однако, когда нужно исследовать вещество, взятое с художественного произведения, особенно микропробу, и правильно интерпретировать результат исследования, необходим специалист, знакомый с изучением музейных экспонатов, который и определит выбор метода в зависимости от поставленной задачи.
Всякое научное исследование предполагает предварительное знание или, по крайней мере, представление о материалах, с которыми предстоит столкнуться при изучении произведения, а также о возможной реакции этих материалов на применение того или иного аналитического метода. Это позволяет не только выбрать наиболее эффективный метод исследования, но и предвидеть результативность самого исследования. Выбор метода зависит, прежде всего, оттого, что и с какой целью подлежит изучению. Правильно намеченный объект и точно сформулированная цель исследования во многом определяют результативность работы, так как помогают правильно оценить значение тех отдельных фактов, которые устанавливаются в ходе его изучения.
Если исследование технико-технологических особенностей произведения проводится в связи с его реставрацией, цель и объект исследования должны быть указаны реставратором. Если же исследование связано с определением подлинности, с атрибуцией или экспертизой, — направление исследованию должен дать специалист, компетентный в историко-художественной оценке вещи. Действительно, полное изучение художественного произведения может быть достигнуто лишь в результате исследования всех его элементов — собственно художественных и материальных.
Под художественными элементами понимают, в частности, композицию, колорит, почерк художника, «фактуру» произведения, то есть то, каким образом материал объекта исследования организован в художественном произведении. Художественные элементы произведения, в конечном счете, определяют его стиль — совокупность устойчивых и характерных, исторически сложившихся признаков, присущих искусству определенной эпохи, направления, школы, мастера. Материальные элементы — это материалы и их свойства, технологические особенности произведения и его структура, то есть весь вещественный комплекс, составляющий художественное произведение со всеми присущими данному мастеру особенностями.
Художественные элементы произведения, их связь с вопросами атрибуции должны оставаться компетенцией историка искусства, хорошо представляющего себе возможное место исследуемого произведения в ряду его «предшественников» и «современников» и имеющего в то же время достаточные знания в области технико-технологических особенностей создания художественных произведений той эпохи, школы или мастера, к которым он предположительно относит данную вещь. Интерпретация результатов исследования материальных элементов, поставляющих опорные технико-технологические данные для выводов искусствоведческого плана, может быть доверена только специалистам лаборатории, компетентным в вопросах истории технологии.
Многочисленные примеры из отечественной и зарубежной практики дают основание утверждать, что технико-технологическое исследование позволяет получить весьма обширную и разностороннюю информацию о произведении искусства, информацию, которая может быть использована в различных целях. Поэтому нужно еще раз подчеркнуть, что объектом такого исследования может быть каждое произведение живописи, независимо от техники его исполнения и времени создания. Однако получением лабораторных данных изучение произведения не исчерпывается. Скорее, напротив, работа в лаборатории является лишь подготовкой к завершающему этапу, на котором необходимо собрать воедино все полученные результаты и, вернувшись к оригиналу, сопоставить их с визуальным наблюдением. Только в этом случае можно получить наиболее полную информацию об изучаемом произведении.
Интерпретация лабораторных данных — несомненно, является наиболее ответственным моментом исследования. Если овладение даже сложными методами анализа не представляет большого труда для специалиста, а объективный характер аналитических методов, дающих результаты высокой точности и достоверности, снимает в известной мере момент личного воздействия на результат исследования, то правильность прочтения и истолкования полученных данных в значительной степени зависит от субъективной оценки интерпретатора — его умения разобраться в большом числе подчас противоречивых фактов. Физик может достаточно компетентно судить, например, об отклонении видимого изображения от полученного в различных областях спектра, химик — о составе краски по данным химического анализа, а ботаник — о породе древесины основы. Однако объяснения только физического, химического или ботанического смысла, явления будет явно недостаточно. Специалист, интерпретирующий лабораторные данные, должен отметить именно те особенности исследуемого произведения, которые говорят об отличительных чертах определенного мастера, характерны для той или иной живописной школы или эпохи. Следовательно, любой из методов научного изучения живописи и особенно интерпретация результатов исследования всегда будут требовать участия специалистов, обладающих знаниями в области истории искусства.
Нужно, однако, напомнить, что далеко не всегда лабораторное исследование дает одинаково ценные сведения. Нередко фотография люминесценции или инфракрасная фотография мало, чем отличаются от обычной, а слабоконтрастная рентгенограмма ничего не прибавляет к видимому изображению, пигмент не поддается расшифровке, а характер связующего не устанавливается. Подобные неудачи не должны приводить к преждевременным выводам о непригодности того или иного метода или к поспешным оценкам результатов исследования. Только комплексное исследование, практический опыт, постоянное общение с произведениями искусства, знание техники и технологии живописи в историческом аспекте позволят исследователю извлечь максимальную пользу из находящихся в его руках документов.
Из книги “Основы музейной консервации и исследования произведений станковой живописи” под ред. Ю.И.Гренберга